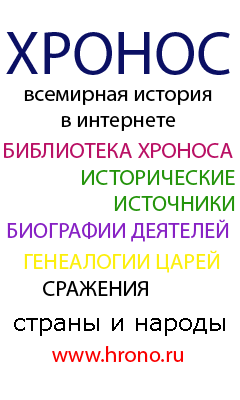Прогрессивное русское офицерство XIXвека воспиринмало Кавказ как романтизированный и идеалихированный мир социального устройства. Однако необходимость участи в Кавказской войне порождало у них состояние глубокой внутренней трагедии, что силой художественного таланта глубоко отразил М. Ю. Лермонтов.
Проведённые нами исследования иерархической структуры ценностей традиционной культуры отдельных народов Северо-Западного Кавказа [2] показали примечательное сходство полученных результатов с некоторыми итогами исследований традиционной русской культуры и ментальности [4, 8, 10]. Действительно, в обеих культурах доминантными являются такие духовно-нравственные ценности, как вольность, общинность, неприятие государственного принуждения, свобода личности, доблесть в защите родного края, фатальная устремлённость в будущее, неприкосновенность женской чести и т.д.
Заметное отличие выявляется лишь в степени выраженности этих ценностей, специфике их практического проявления.
Если в русской культуре они, по большей части, оказываются лишь социально желательными, но далеко не всегда находящими реальное воплощение, то в горской культуре их материализация является императивом, неукоснительно закреплённым обычаем. Логично предположить, что именно поэтому так психологически комфортно именно на Кавказе ощущали себя русские пассионарии – от казаков до декабристов. Возможно, в этот же ряд можно добавить и современный нам пример – добровольцы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
[193]
Известно, что радикальный слом исконно русских ментальных структур стал последствием централизации российского государства, сопровождаемой фактически насильственным внедрением в стране ценностей западной культуры. При этом наиболее суровому прессингу со стороны укрепляющейся государственной власти и, как результат, практически полному искоренению, подверглась одна из ярких русских культурных доминант: стремление к вольной жизни, ее высшему выражению – свободе духа, тесно связанное с исканием абсолютного добра. «Не царская Москва XVIвека, а вольный Новгород XIV- вот отражение сущности русского духа… Русскому и вообще славянам свойственно стремление к свободе, не только свободе от ига иностранного народа, но и свободе от оков всего преходящего и бренного… В нем издревле живет и действующий меркнущий на глазах образ божественной гармонии, и, чем больше его не хватает ему вокруг себя, тем настойчивей он пытается восстановить это утраченное в окружающем мире. Он хочет преобразовать дисгармоничный внешний мир по внутреннему небесному образу… С исчезновением же чувства свободы исчезает самоуважение и чувство личной ответственности», - подчеркивал В. Шубарт [10: 63;77;68;63].
Неизбежно возникающие при этом у населения психологические противоречия, вызывающие состояние фрустрации и, как следствие, более или менее активного протеста, безжалостно подавлялись всей мощью государственной машины Российской империи. В результате наиболее социально активные, анархического склада личности, не «вписывающиеся» в жестко-тоталитарный строй, воспринимавшие государство как источник глобального зла, искали выхода либо в организации восстаний и бунтов, либо в бегстве в «вольные края», каким тогда был и Кавказ. Со временем этот процесс привёл к зарождению именно на российском Юге казачества как будущего имперского сословия.
После окончания Отечественной войны 1812 года и активизации военных действий на Южном направлении на Кавказе появляется новый весьма заметный слой русских пассионариев – офицерство, являвшееся одной из наиболее образованных и прогрессивных частей тогдашнего русского общества. Многие из них - прежде всего, участники и сочувствующие движению декабристов - активно выражали социальный протест против «духоты» и несвободы государственной тоталитарной власти, падения нравов среди дворянского сословия.
Следует особо подчеркнуть, что в этой среде, как и у всей русской прогрессивной интеллигенции начала XIX века, были весьма популярны идеи французского Просвещения XVIII века, почитавшие идеалом устройства человеческого общества сообщество вольных граждан, обладающих высоким самосознанием, обретаемым лишь в кругу свободных людей, принимающих свои гражданские обязанности. Вольтер, Жан-Жак Руссо, Шатобриан прославляли врождённую
[194]
добродетельность человека до его соприкосновения с тлетворным влиянием современной цивилизации, «благородного дикаря», живущего в гармонии с природой и окружающими.В результате широкого распространения этих идей бессознательное образованного западного человека стремилось к осуществлению мечты - отыскать современника, всё ещё живущего в земном раю. Живым воплощением этого мифологизированного образа представлялись русским пылким юношам обитатели Кавказа:
«… Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели,
Гордились дружбою взаимной;
Там каждый путник находил
Ночлег и пир гостеприимный;
Черкес счастлив и волен был.
Красою чудной за горами
Известны были девы их,
И старцы с белыми власами
Судили распри молодых,
Весельем песни их дышали!
Они тогда еще не знали
Ни золота, ни русской стали!» [5: 325].
Таким образом, не приходится удивляться, что яркий представитель этого социального слоя, М. Ю. Лермонтов, собственную ссылку на Кавказ парадоксальным образом воспринимает не как наказание (которое вполне можно было расценивать и как смертный приговор), а как возможность наконец обрести собственное человеческое достоинство и свободу воли:
«Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей» (1841) [5: 213].
Написанные уже на Кавказе произведения поэта показывают, что он не ошибся в своих ожиданиях. В них явно прослеживается восхищение нравами и простым бытом горцев, их самоотверженной борьбой с иноземными завоевателями. Это восхищение резко контрастирует с остро ощущаемой поэтом утратой воли – точнее, воли
[195]
к воле – славянами: тема, часто возникающая в ранних произведениях автора. В стихотворении «Новгород» (1830) он тщетно вопрошает тени былых обитателей города-символа славянского народовластия:
«Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!....
До наших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и кипит! ...
Есть бедный град, там видели народы
Все то, к чему теперь ваш дух летит» [5: 69].
Ещё большим разочарованием проникнуты строки повести «Последний сын вольности» (1830-1831):
«…Увы! пред властию чужой
Склонилась гордая страна,
И песня вольности святой
(Какая б ни была она)
Уже забвенью предана.
Свершилось! дерзостный варяг
Богов славянских победил;
Один неосторожный шаг
Свободный край поработил!» [5: 281].
С горечью поэт описывает моральное падение когда-то вольнолюбивых новгородцев, теперь же счастливых приглашением за пиршественный стол иноземного тирана – князя Рурика. Они способны лишь сожалеть о былых славных временах, пассивно надеясь на их возвращение, причём каким-либо независящим от них чудесным образом:
«… надеждою обольщена,
вотще душа славян ждала
возврата вольности» [5: 290].
Даже гордый протест славянского юноши Вадима, вызвавшего Рурика на поединок чести, не пробуждает сердца его сородичей: отчаянный порыв героя не был поддержан нравственно деградировавшими соплеменниками:
[196]
«… не нашлись
В их душах чувства прежних дней,
Когда за отнятую честь
Мечом бойца платила месть» [5: 293].
Нескрываемым презрением проникнуты строки, описывающие их единственную реакцию на роковой поединок:
«… и долго ожиданья страх
Блестел у зрителей в глазах…» [5: 301]
Опытный воин Рурик побеждает в поединке, его приветствуют дружины, но ни один новгородец, допущенный за княжеский стол, не только не рискует придти на помощь Вадиму:
«… Он пал в крови и пал один –
Последний вольный славянин!» (курсив автора – А.Б.) [5: 301].
напротив, торопясь вернуться к пиру, вероятней всего, вообще стремится поскорее изгнать этот неловкий эпизод из памяти:
«… Забыт славянскою страной,
Свободы витязь молодой» [5: 302].
Итак, в своих ранних произведениях Лермонтов настойчиво, с очевидной тоской повторяет: достойные поступки вольнолюбивых героев «славянского» цикла для современного ему русского человека - не более чем «предания ушедшей старины». Неслучаенгорькийпостскриптумпоэмы:
A tale of the times of old!..
The deeds of days of other years!..
(Сказание седых времен!..
Деянья прежних лет и дней!..) [5: 302].
Действительно, только «за стеной Кавказа» молодой поэт, автор весьма пессимистических стихотворных произведений, разочарованный и унылой пассивностью своего поколенья, и затхлой атмосферой имперского Петербурга, и «тлетворным влиянием света», находит то, «к чему летит его дух»: необоримое стремление к вольности, живые представления о человеческом достоинстве, чести и свободе. Нельзя не почувствовать, что герои «кавказских» произведений Лермонтова
[197]
являются именно его современниками (в «Беглеце» (1837) даже подзаголовок «легенда» выглядит неким шифром, призванным оградить поэта от обвинений в открытой симпатии врагу). Характерна и гордая мотивация, которой поэт в поэме «Измаил-бей» (1832) наделяет горцев, принявших решение покинуть родные края:
«Черкес удалый в битве правой
Умеет умереть со славой,
И у жены его младой
Спаситель есть - кинжал двойной;
И страх насильства и могилы
Не мог бы из родных степей
Их удалить: позор цепей
Несли к ним вражеские силы!
Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя» [5: 326].
Несомненно, что и сам Лермонтов, и разделяющие его чувства читатели – первыми из которых были его сослуживцы-офицеры, в известной степени идеализировали горский мир, романтически воспринимая его как собственный «потерянный рай», вновь обретенный среди вершин Кавказа. Не случайно эмоциональное высказывание декабриста А. А. Бестужева-Марлинского: «Дайте Кавказу мир и не ищите земного рая на Ефрате... - он здесь, он здесь!» [1: 228].
Таким образом, бессознательное проецирование собственных внутренних смыслов и устремлений на горскую общественную и социальную жизнь, художественное переосмысление реальности, приписывание ей идеального изображения в соответствии с собственными духовными потребностями и создало тот волшебный образ гордого Кавказа, на котором впоследствии были воспитаны поколения русских интеллигентов.
«И в неизбывное насилье
Колонны, шедшие извне,
На той войне черту вносили,
Не виданную на войне.
Чем движим был поток их? Тем ли,
Что кто-то посылал их в бой?
Или, влюбляясь в эту землю,
Он дальше влёкся сам собой?
[198]
Страны не знали в Петербурге,
И злясь, как на сноху свекровь,
Жалели сына в глупой бурке
За чёртову его любовь.
Она вселяла гнев в отчизне,
Как ревность в матери, - но тут
Овладевали ей, как жизнью,
Или как женщину берут»,
- писал столетие спустя Б. Л. Пастернак [7: 385].
Наиболее подробно этот психологический феномен описан М. Ю. Лермонтовым в очерке «Кавказец» (1841). Его герой, типичность которого автор неоднократно подчёркивает, приезжает к месту службы восторженным выпускником кадетского корпуса, воспламенённым поэтической страстью к Кавказу. Вначале он проявляет даже сверхнормативную активность на избранном поприще, стремится проявить особую доблесть и отвагу на поле брани, но спустя всего пять-шесть лет «приобретает опытность, становится холодно храбр, и смеётся над новичками, которые «подставляют лоб без нужды» [6: 591].
Зато, сообщает автор, к тому времени «у него явилась новая страсть, и тут-то он делается настоящим кавказцем.
Эта страсть родилась вот каким образом: последнее время он подружился с одним мирным черкесом, стал ездить к нему в аул. Чуждый утончённостей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую… пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надёжный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая гурда, кинжал - старый базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь - чистый шаллох и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия» (курсив автора – А.Б.) [6: 591].
Итак, автором особо подчёркивается, что «настоящим кавказцем» русский офицер становился только после установления тесных, почти семейных отношений с горской общиной, только среди ее обитателей обретая подлинный душевный покой и комфорт.
Описанная ситуация могла бы выглядеть почти идиллической, если бы эти трогательные чувства не проявлялись на фоне почти столетней жестокой войны. Войны, которая не ограничивалась сражениями на полях брани, но сопровождалась нередкими карательными экспедициями против мирного населения, сожжения и разорения тех самых, столь милых и привлекательных горских селений, сознательной организации в них голода и эпидемий. Даже те офицеры, кто видел
[199]
в присоединении к России единственный путь для прогресса на Кавказе, в большинстве своём не могли принять жёстких методов, применяемых самодержавием в крае.
В данной ситуации, на наш взгляд, правомерно говорить о наличии тяжелого когнитивного диссонанса, стабильного стресса и, как следствие - состояния глубокой внутренней трагедии у значительной части русского прогрессивного офицерства. Воспитанные в безусловном преобладании экстернального локуса контроля, в жёстких социальных рамках двойного беспрекословного подчинения (как граждане тоталитарной империи и как военнослужащие, связанные присягой), они были вынуждены своими же руками разрушать вновь обретённый в чужом краю свой легендарный край «вольности святой», мир, ставший им родным, уничтожать людей, завоевавших их уважение и любовь. Поразительно по силе психологического воздействия описание Лермонтовым покорения горского селения в поэме «Измаил-Бей»:
«… Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор.
Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель;
Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей
Ласкает он кровавою рукою,
Но жены гор не с женскою душою!
За поцелуем след звучит кинжал,
Отпрянул русский, - захрипел, - и пал!
«Отмсти, товарищ!» - и в одно мгновенье
(Достойное за смерть убийцы мщенье!)
Простая сакля, веселя их взор,
Горит, - черкесской вольности костер!..» [5: 362].
Тема бесчеловечного разорения целой горской цивилизации нашла отражение не только в творчестве М. Ю. Лермонтова, но и в других произведениях «кавказской офицерской прозы», прежде всего А. А. Бестужева-Марлинского и Л. Н. Толстого. Их примечательность заключается, прежде всего, в отсутствии в них «образа врага» в описаниях противника, что казалось, было бы естественно для писателя-воина.Анализируя эти произведения, Я. А. Гордин отмечает, что «...к удивлению своему, обнаружил равновесие симпатий авторов к людям, ведущим войну с той и с другой стороны» [3: 331]. Для исключительно агрессивной по определению ситуации войны, где актуализация «образа врага» является одной из неизбежных составляющих процесса, подобные типические переживания, деформация
[200]
системы ценностных ориентаций и аттитюд у столь специфической социальной группы, как офицерство, по праву можно считать психологическим феноменом.
Тем не менее, открыто восстать против существующего положения вещей решился лишь начальник черноморской береговой линии, связанный с декабристским движением генерал Н. Н. Раевский-младший. В знак протеста против проводимой имперским правительством политики он пишет прошение об отставке на имя военного министра графа Чернышева. Сегодня пламенные строки этого сугубо казённого документа воспринимаются как горькое пророчество:«Я здесь первый и один за все время восстал против пагубных военных действий на Кавказе и от этого вынужден покинуть край. Наши действия на Кавказе напоминают все бедствия первоначального завоевания Америки испанцами, но я не вижу здесь ни подвигов геройства, ни успехов завоеваний… Дай Бог, чтобы завоевание Кавказа не оставило в русской истории кровавого следа, подобного тому, который оставили эти завоеватели в земле испанской» [Цит по: 9: 369].
Вместе с тем, у большинства офицеров отмечалась мотивационная ригидность, невозможность полного отказа от господствующих социальных стереотипов, их стремление к преодолению психологического дискомфорта проявлялось в достаточно пассивной форме. Несмотря на наличие очевидного обесценивания собственных поступков, чувства вины, полной утраты мотивировки, они проявляли свой внутренний протест не при выполнении служебного долга, но лишь в публичном выражении собственных чувств (в том числе – в литературных произведениях). Впрочем, в условиях войны подобные проявления также являлись весьма небезопасными для офицеров действующей армии.
Помимо того, фактический «самострел», как способ покинуть театр военных действий, описанный в «Кавказце» - то есть прямое воинское преступление, за которое полагался военно-полевой суд и расстрел, также можно рассматривать как вариант протеста офицерства против дальнейшего участия в ставшей невыносимой войне. Подобная практика вполне соответствует характерной для русской ментальности неагентивности: бездействию – как способу «действия» в борьбе добра со злом [8: 151]. Будничность описания Лермонтовым этого акта, сообщение, что его жаргонное название: «на пенсион» - «освящено обычаем», однозначно свидетельствует о массовости такого радикального способа разрешения проблемной ситуации. Характерно, что подобное, казалось бы, совершенно невозможное для военнослужащего действующей армии поведение, очевидно, одобряется автором-офицером, подчёркивающим, что «настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия» [6: 590].
О силе испытываемых лучшими представителями русского офицерстваамбивалентности чувств говорит и оставленное ими значительное количество документальных свидетельств уничтожения
[201]
горской цивилизации: письма, мемуары и даже военные рапорта. Генерал Г. И. Филипсон, штаб-лекарь И. Е. Дроздов, штабс-капитан А. М. Смекалов, наказной атаман Кубанского казачьего войска генерал-лейтенант Ф. Н. Сумароков-Эльстон, генерал-лейтенант И. А. Бартоломей, генерал-майор П. К. Услар, военный историк генерал-лейтенант В. А. Потто и многие другие авторы, чьи строки резко обличительны, полны возмущения действиями собственной армии и сострадания к побеждённым. И сегодня мы фактически имеем возможность изучать историю самоотверженной борьбы и гибели народов Кавказа, в значительной степени благодаря этим честным и горьким свидетельствам очевидцев – достойных и благородных русских людей, «невольников чести» воинской присяги, ставших заложниками своего воспитания и своего времени.
Литература
1. Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. Т. 2. М., 1958.
2. Бройдо А. И. Проявления этнопсихологических особенностей абхазов в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. М., 2008.
3. Гордин Я. А. "КАВКАЗ: земля и кровь". СПб., 2000.
4. Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994.
5. Лермонтов М. Ю. Сочинения. Т.1. М., 1988.
6. Лермонтов М. Ю. Сочинения. Т.2. М., 1988.
7. Пастернак Б. Л.Услышать будущего зов. М., 1995.
8. Стефаненко Т. Г.Этнопсихология: Учебник для вузов. М., 2004.
9. Фадеев А. В. Россия и Кавказ первой трети XIX века. М., 1960.
10. Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 1997.
Бройдо Анна Ильинична – руководитель проекта Национального института региональных исследований и политических технологий «Экспертное сообщество», этнопсихолог, кандидат исторических наук
[202]
Впервые опубликовано в издании: Кавказские научные записки. Академия наук Абхазии, Российский государственный торгово-экономический университет. №3. М., 2012. с. 193-202